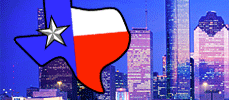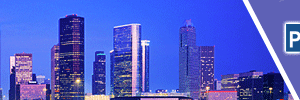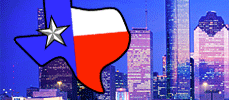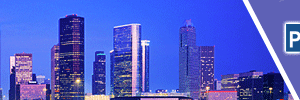Его улыбка стала одним из символов оттепели в СССР. Его игра покоряла слушателей редкой поэтичностью и техническим совершенством. Он навсегда останется для поклонников тем молодым Ваном Клиберном, который играл «Подмосковные вечера» и одним лишь выступлением на Конкурсе Чайковского приоткрыл железный занавес. Спустя четыре года пианист откроет конкурс своего имени в Техасе и будет снова и снова приезжать сначала в Советский Союз, потом в Россию. Потому что с этой страной его связывают особые отношения. На этот раз Ван Клиберн приезжал в Москву, чтобы принять титул почетного председателя жюри пианистов XIV Международного конкурса имени Чайковского.
Ему не привыкать к этим долгим перелетам Хьюстон-Москва. Тем более, в Москве еще с весны 1958 года у Вана Клиберна остались друзья и поклонники.
«Я люблю Россию. Особенно Москву», – признается пианист.
Россию и Москву Клиберн полюбил задолго до Конкурса имени Чайковского. В юном возрасте родители подарили ему иллюстрированную «Всемирную историю», где Клиберн нашел фотографии Кремля и собора Василия Блаженного. Отправляясь в Россию, он даже не мечтал продвинуться дальше первого тура. Зато рассчитывал увидеть московские архитектурные чудеса. Но все получилось совсем не так.
Это была сенсация. В рыжем двухметровом техасце Клиберне увидели второго Рахманинова. Святослав Рихтер, лишь единожды участвовавший в работе конкурсного жюри, многим ставил нули, но Клиберну – высшие 25 баллов. В кулуарах твердили: «Гений».
«Это было самое счастливое время в моей жизни. Я был гениальным всего один раз в жизни – тогда, на конкурсе Чайковского. Я играл так, как не играл больше никогда в жизни», – заверяет он.
Клиберна признали русским музыкантом. А он и был учеником выпускницы Московской консерватории Розины Левиной. Перед конкурсом они занимались по девять-десять часов. С тех пор Клиберн навсегда запомнил русскую поговорку: «Без труда не вытащишь и рыбку из пруда!» Он это понял, вот только повторить не может.
Московская публика полюбила его сразу и навсегда. Аплодировали Вану, или, как его называли на русский манер, Ване, стоя. Поджидали у входа в гостиницу, дарили балалайку, банки с вареньем, вязаные носки, шапки. Надеялись, что он останется в Советском Союзе, а зимой теплые вещи пригодятся. Хрущев пытался его накормить, приговаривая: «Ешь, а то ты, Ваня, слишком худой». Но он все-таки вернулся в Америку и там стал национальным героем – Клиберна встречали, как Юрия Гагарина, вернувшегося из космоса. А день, когда он завоевал свою победу, стал в США Днем Музыки.
Клиберн любит цитировать поэта Сэмюэля Джонсона, сказавшего: «В 77 лет пора уже стать серьезным!». 12 июля Клиберну исполнилось 77 лет.
В России Клиберн ответил на вопросы журналистов.
– Каждый раз, когда вы возвращаетесь в Россию, вы попадаете в фанатскую атмосферу. Вас до сих пор любят и знают здесь так же, как и прежде, будто не прошло этих 54 лет?
– Да, и я до конца жизни люблю Россию. Она дала мне очень много: она дала мне имя. С того момента, как 26 марта 1958 года я сошел с самолета в Москве, я почувствовал эту удивительную ауру любви к музыке и доброты, которая окружает меня здесь до сих пор.
– Но вы ведь в те времена холодной войны тоже рискнули приехать в страну, которую в американских газетах называли «страной волков и снегов»?
– Да, я читал тогда все это в газетах, знал, что наши страны имеют различия, но я как-то всегда был сам по себе. Кроме того, я с детства мечтал увидеть собор Василия Блаженного. У меня в детстве была книжка с красивыми картинками городов и достопримечательностей мира – Биг-Бен, Эйфелева башня, Тадж-Махал и самая моя любимая – собор Василия Блаженного. К тому же я играл много русской музыки. И моя мама Рильдия Клиберн сказала мне тогда: «Я знаю, что ты любишь русскую музыку, и ты полюбишь русских людей. Люди, которые пишут такую замечательную музыку, должны быть удивительными. Поезжай, тебе ведь уже больше, чем 21 год». Конечно, мне нужна была какая-то решимость, поддержка, и опять она мне посоветовала: «Слушай музыку и тогда, когда ты выйдешь на сцену, тебе не надо будет никого просить о помощи». Она была моим первым учителем до 17 лет – фантастическая пианистка, большой психолог и замечательная мама. Помню, как она шла на кухню, а я шел к пианино. И однажды она вошла в комнату и воскликнула: «Это ты играл?! Ты хочешь учиться? – Да, конечно, мама. – Очень хорошо! Ты должен знать, что делать и как!». Мне тогда было 3 года, а в 4 года я впервые появился на публике. Кстати, ее учителем был немецкий пианист Артур Фридхайм, который учился в свое время у Листа. К 8-9 годам я играл все Этюды Шопена, все Трансцедентальные этюды Листа. Она меня научила технике, за что я ей всю жизнь благодарен.
Позже я поехал в Нью-Йорк и поступил в Джульярдскую школу, и мама радовалась: «Какой ты счастливый, теперь ты будешь учиться!» С 17 до 23 лет я учился у Розины Левиной в Джульярде, которая окончила Московскую консерваторию практически одновременно с Рахманиновым.
– И что самое важное вы вынесли из тех первых уроков музыки?
– Слова моей матери: «Ты должен всегда служить музыке. Ты должен думать о ней, насколько ты можешь. И помнить, что каждый композитор – это индивидуальность, это живой человек, который что-то хотел выразить в своем произведении».
– А в чем вы видите индивидуальный подход к композитору со стороны исполнителя? Где границы исполнительской свободы?
– Единственное, что должен делать исполнитель, это как можно более верно и правдиво интерпретировать сочинение. Каждый исполнитель – это слуга музыки. Его обязанность – донести до каждого слушателя, сидящего на самом дальнем ряду, понимание произведения композитора. Скажем, вы видите или слышите что-то красивое, и композитор, когда писал сочинение, тоже чувствовал что-то красивое. Вы должны вот так вздохнуть: красота! Ее никогда не бывает слишком много. Вот гадости бывает слишком много. Но никогда не бывает слишком много красоты!
– В какую сторону развивается пианистическое искусство? Скажем, активная сегодня азиатская школа на первый план ставит технику.
– Но это ведь не музыка! Техника только служит для того, чтобы понимать музыку. Бывает, что вы слушаете какого-нибудь молодого музыканта, и вы знаете музыку, которую он исполняет, но у вас чувство, будто вы просто переворачиваете страницу, на которой написано много-много знаков. И все – больше ничего! Никакой музыки! Только переворачиваются страницы! Моя мама мне всегда говорила: «Слушай звук!» Каждый звук должен быть в голове. Звук надо слушать очень тщательно и все время оценивать, как он звучит. И каждый в зале должен понимать каждую ноту. Вот только тогда и возникает музыка, только тогда можно что-то донести до слушателя. В большой музыке написано много нот, но когда ты ее начинаешь исполнять, то выясняется, что все обозначения – это иллюзия. Скажем, когда в нотах написано «пианиссимо» – это не значит, что надо играть буквально пианиссимо. Должна возникать иллюзия пианиссимо. Должен быть звук. Или, например, «фортиссимо» – опять должна быть иллюзия фортиссимо. Вы должны оказаться как бы внутри этого звука, он должен окружить вас. И все это находится в клавиатуре. Надо вытащить звук из клавиатуры и создавать из него музыку. Четыре композитора лучше всего понимали фортепиано – Бетховен, Шопен, Лист и Антон Рубинштейн. И все они говорили о том же. Надо тщательно отделывать звук, чувствовать его. То есть нельзя играть быстро. Нужно создавать иллюзию «быстро», а в голове играть медленно.
– В Москве вы ведь были счастливы.
– Да, я был счастлив, но не совсем доволен самим собой! Я думал тогда, что мог бы сыграть лучше. Это перфекционизм. Это так ужасно! Мы ведь все время занимаемся – что-то чистим, шлифуем, потом идем на репетицию, стараемся сверить, подогнать, надеемся, что будет лучше. Но я никогда не знаю, как все прозвучит, когда будет выступление.
– Вы замечаете, как меняется аудитория концертных залов, как она изменилась в России?
– Во всем мире все меняется. Изменился трафик – кругом машины. Это же совсем другой мир. Но фундаментальная культура не изменилась, и она несет в себе прекрасное.
– А вы считаете, что классическая музыка – это прекрасный остров в современном мире, или она может как-то воздействовать, изменять его?
– Музыка, конечно, ничего не меняет. И ее положение в мире зависит от времени. Но о классической музыке не надо беспокоиться. Она всегда выживет, она никогда не погибнет.
Ирина МУРАВЬЕВА,
Алиса ЛИСИНА,
фото Лилии ЗЛАКАЗОВОЙ